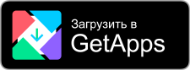3 сентября 1941 года родился Сергей Довлатов
Довлатов: пэчворк или лоскутное шитьё?
3 сентябряКаждый, кто хоть немного знаком с творчеством Сергея Довлатова, кто хотя бы краем глаза цеплял какие-то его строчки, скажет: Довлатов писал вкусно. Вкусно. Его строчки хочется смаковать, его фразы – выписывать в цитатник, его метафоры – запоминать, его хочется впитывать, так, чтобы не забылось и осталось с тобой надолго.

Сергей Довлатов. Фото: rosphoto.com
Он был другим, непривычным, непохожим, неправильным и, конечно, понимал это. Совсем не вписывался он в образ классического русского писателя, советского писателя. Это тем более удивительно, ведь сформировался его уникальный стиль именно на массивном фундаменте русской классической литературы. В нем, в его стиле, — отпечаток неоконченного филфака и опыт работы надзирателем в лагере особого режима, журналистика в Таллине и флер экскурсоводческой деятельности, в нем – жизнь, разделенная пополам, зависшая где-то между Советским Союзом и Америкой. И вот такой он, кажется, и был — где-то между: и не американский пэчворк, и не русское лоскутное шитьё.
Широко известно, что у Довлатова была своего рода творческая сверхзадача: он старался писать так, чтобы каждое предложение начиналось с разных букв. Его писательский стиль такой же – на грани смелого экспериментаторства, но с четким отпечатком впечатлений от тех творцов, фамилии которых – с самых разных букв, эпох, жанров и мировоззрений.
Что думал самый непохожий писатель Довлатов обо всех остальных, на которых он так непохож?
Кого из них считал своим кумиром?
На ком рос и от кого, когда вырос, отказался?
Об этом он рассказал в своем сборнике «Блеск и нищета русской литературы» — в той же самой манере, в какой рассказывал обо всем: вкусно, с юмором, язвительно, крайне субъективно.

Фото: ozon.ru
О Достоевском, Толстом:
«Писать хуже Достоевского считается верхом неприличия», — писал Довлатов, сетуя на то, что в русской культуре традиционно литература – особая сфера, и писатель обязательно должен быть гениальным, иметь особое знание, видение мира, — «Но Достоевский — один. Толстой — один. А людей с претензиями — тысячи». Довлатов не претендовал, вовсе нет, но считал справедливым если уж и сравнивать писателей, то не только в рамках жанра, но и в рамках эпох.
О Пушкине:
Из всех классиков Довлатов выделял Пушкина. Преклонялся перед ним. И особо уважал за незамутненность общественно-политическими идеями.
«Всё, к чему он прикасался, становилось литературой», — писал Довлатов, с восхищением отмечая, что в случае с Пушкиным писательство было не просто профессией – оно было физиологической сущностью писателя.
О Гоголе:
Довлатов вообще видел большую беду, когда в творчество писателя врывался общественно-политический мир. Когда такие гении как Толстой или Достоевский уходили в побочную деятельность и пытались в ней выразить себя. «Мертвые души» Гоголя он назвал гениальными, и считал, что после них Гоголь ушел «не в ту степь», стал писать чепуху…
О Тургеневе:
Довлатов невысокого был мнения как о Тургеневе, так и о его героях, в том числе пресловутых «тургеневских женщинах», и писал, что не видит другой цели читать Тургенева, кроме как академической или практической.
О Чехове:
О, Чехов был для Довлатова кумиром! Писатель видел в нем «первого истинного европейца в русской литературе», писателя масштабного, не местечкового, какого понять может не только русский читатель, считал писателем мира.
О современной литературе:
Довлатов считал, что такие писатели, как Солженицын, Искандер, Войнович и Аксенов, — будущее современной литературы, и именно потому, что они есть, для русской современной литературы не все еще потеряно.
Сборник «Блеск и нищета русской литературы», а конкретно одноименный очерк – довольно язвительно написанная вещь. Многих вот эта злая ирония, сарказм, язвительность в творчестве Довлатова и отталкивает. Но у иронии Довлатова есть одна особенность: он язвит как человек, который подтрунивает над другом только потому, что очень его любит и хочет, чтобы друг стал лучше. Высмеивать оттого, что слишком любишь: на это были способны лишь немногие – Чехов, Зощенко и, пожалуй, Довлатов. Зло высмеивать, порой жестоко, так, чтобы проняло.

Сквер в Санкт-Петербурге. Фото: bogdanov-62. Собственная работа, по лицензии CC BY-SA 4.0
И все-таки, даже имея некоторые поводы для сравнения, Довлатов — не такой как все. Как будто он и не писатель вовсе, а так, сосед, заглянувший вечером за спичками, присевший за узкий кухонный стол выпить чаю, да так и оставшийся дожидаться жареной картошечки и увлекшийся рассказами о своей судьбе.
Он так и писал. Как будто и не писал вовсе. Как будто это просто разговор – кем-то стенографирован, сохранен и опубликован. С кем-то близким: вот, буквально, через стол кухонный руку протяни – и ухватишься. И потому его советам, его мнению, его восторгам и осуждению – веришь. Сейчас, в данный момент и на этой самой кухне – веришь. Возможно, пройдут годы, и жизнь покажет, что все в мире совсем наоборот.